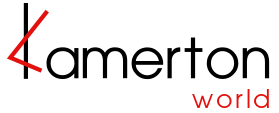Глава 7.
Мучитель
А меня постигла беда. Это было еще до заключения исторического «пакта о списывании». Один из четырех украинских богатырей: Дмитриенко, Андриенко, Николаенко были их имена, а четвертого не помню (кстати, все четыре были Сашами) решил, что именно за мой счет он докажет всему миру, что он непобедимый герой. Сказано – сделано. Саша Дмитриенко стал ждать меня за каждым углом, за каждой дверью – всегда! – и улыбаясь своей белесой улыбкой, он подходил ко мне медленно, и все кружилось при его приближении в немом танце, а во взглядах соучеников я видел восхищение его лихой удалью. Он подходил и щипал меня сначала мягко, с вывертом. Потом бил легонько по лицу, потом толкал к стенке, а я пробовал отпихнуть его от себя, и все вокруг оживлялись и говорили: «Смотри, Саша, он тебя толкнул!» или «Пусть руки уберет, вонючка» и я не помню что еще, но Саша говорил: «О!» и подходил ко мне ближе, а у меня вдруг кровь переставала поступать к голове и все смешивалось, из живота поднимался тяжелый, резкий вкус и я начинал дрожать. А Саша все приближался и приближался ко мне, заслоняя соучеников, друзей, школу – все – и бил меня в живот, а если я закрывал живот руками, то в лицо. Я помню его глаза.
Каждый день теперь стал пыткой. Я не хотел идти в школу и шел. Я ждал на перекрестках зеленого света, искал старушек, которым надо было помочь перейти улицу. Я читал все вывески, но школа вырастала из-за угла, как таинственный замок Мерлина, кажущийся всегда далеко-далеко, и вдруг, вот он. Близко. Здесь.
И надо входить. И вешать пальто на вешалку, а из-за пальто, из-за вешалки, из-за спин соучеников вырастал, манил, притягивал меня мой враг, мое Зло, мой Рок.
Ах, как я хотел заболеть и не болел! Но однажды, я пришел в школу, начался урок, а Саши не было. Не было его и на втором уроке. На перемене нам сказали, что Дмитриенко болен ангиной и его целую неделю не будет. Целую неделю! Я ходил по школе. Я смотрел на своих соучеников, я читал школьную газету! Я делал вещи, которые не мог делать раньше, потому что все время ждал, искал в толпе Сашино лицо.
Эта неделя прошла как сон, как сказка, и когда Он появился в классе, когда его приветствовали шумными криками, спрашивали о чем-то, а он нашел меня глазами и пошел ко мне, я понял, что именно сейчас решится, быть ли мне свободным человеком! Я помню, что именно так и подумал. А он уже был совсем рядом со мной и улыбался, а класс, мой любимый класс столпился вокруг и глазел и радовался. Тогда Саша взял меня за рукав и вытащил сопротивляющегося на центр, к доске. Он втолкнул меня на центр, чтобы всем было видно, чтобы все получили удовольствие от того, что он со мной сделает.
И тут я вдруг поразился, что не дрожу. То есть, мне казалось, что тело мое ходит ходуном, но я увидел свою руку, выставленную вперед, чтобы защититься от Дмитриенко, и увидел, что она не дрожит.
Саша отбросил мою руку и она улетела в сторону, как сухая ветка, отброшенная нетерпеливым пешеходом. Он не давал мне опомниться. Он что-то придумал, у него была неделя готовиться к нашей встрече. Он вдруг протянул левую руку и схватил меня за губу. Но зубы мои непроизвольно сомкнулись, челюсть свело, и я увидел, как он вдруг побледнел и закричал.
Он пытался вырвать палец и не мог, а я не мог отпустить его, меня заклинило. Из глаз его брызнули слезы, а я, вдруг, неожиданно для самого себя обеими руками, сжатыми в кулаки, ударил в это ненавистное лицо, потом еще и еще. Потом в поддыхало, ногой по коленке, еще, еще, еще раз, потом в нос, в хрящ, снова в хрящ, увидел красное, увидел ужас в его глазах, снова ударил ногой под коленку, и почувствовал соленый вкус во рту. Меня стало тошнить, зубы разжались, и Саша рухнул на пол. Он ползал по полу и орал, переходя с крика на визг, и снова на крик.
Прибежала учительница, потом еще одна, потом директор и медицинская сестра. Сашу куда-то увели. Все это время я стоял в углу класса у объявления «Да здравствует Советская женщина, труженица и мать», и мне было почему-то холодно. Потом пришел директор и все сели, а я остался стоять в том же углу. Директор даже не посмотрел в мою сторону. Он сказал мне: «Вон! Варвар! Я не потерплю тебя в этой школе. Вон!». И я ушел. Я хотел взять портфель, но он снова сказал «Вон!». Я стоял в совершенно пустом коридоре, уже начался урок, стоял у окна и не знал, что мне теперь делать. Я думал не о директоре и не о родителях, а о Дмитриенко. Я думал, что когда он вернется, он будет бить меня снова и снова. Мне все еще мутило от вкуса его крови, и я решил, что, что бы ни случилось, я каждый раз буду пытаться достать ногой его колено, а рукой ударить в нос или в глаз.
И тут я увидел, что он возвращается. Палец у него был перевязан, под глазом синяк в пол лица. Он шел из «Медпункта» в класс, и я пошел ему наперерез. Господи, он был в пять, в десять раз сильнее меня, еврейского мальчика с толстой попой и узкими плечами! Я так боялся его. Мое сердце ныло от страха, но я пошел ему наперерез, а Саша Дмитриенко остановился, а потом стал пятиться и вдруг побежал куда-то из коридора. Тогда я спрятался. Я стал за стенд с диаграммами «Пионерское соревнование в честь для рождения Ленина», и стал ждать. У меня было время.
Саша появился сначала плечом, потом одним глазом, прической, вторым глазом. Огляделся, и тихо, крадучись, пошел по гулко пустому коридору в сторону класса. Он шел, оглядываясь, неуверенно прижимаясь поближе к стенке. И когда он был в метре от меня, я вышел из-за стенда и остановился. И снова я увидел тот же ужас в его глазах, что видел в классе, когда я почти откусил его палец.
«Болит?», - неожиданно для самого себя спросил я. Саша сделал шаг назад. Ни тогда, ни сейчас не переношу я унижения одного человека перед другим, ужас во взгляде, подобострастие. «Ты извини, что я так, - сказал я тогда своему заклятому врагу, Саше Дмитриенко, - я не нарочно. Это у меня зубы заклинило». «Заклинило?», - спросил Саша. «Ага», - подтвердил я. Тогда Саша вытянул вперед руку с завязанным пальцем: «А у меня уже и не болит совсем. Хочешь посмотреть?», и мы с ним вдвоем, посредине совершенно пустого коридора смотрели оба на лопнувшую кожу его пальца, на синие следы от моих зубов, потом он пытался, скособочившись, увидеть синяк под глазом, а потом я помогал ему опять наворачивать и завязывать бинт.
Интересно, что во время всей этой истории с Дмитриенко (пожалуй, в течение целого полугода) я не видел снов и ни о чем не мечтал. Или мне это только кажется?
Глава 8.
Гуля
Вот, рассказал о Дмитриенко, а вспомнилась вдруг Воропаева. Та самая Воропаева, которая не взяла меня в рейд, которая поступила не как октябренок-ленинец и сказала, что фотоаппарат ей важнее человека.
Было это на танцах в Репино, летом, когда нам было уже по 17 или 18 лет. Тогда я вытянулся до метра девяносто сантиметров. Завел бороду под «Хемингуэя» и мамы толкали своих прыщавых дочек в бока, когда я проходил мимо. У нас была самая веселая, самая музыкальная компания на всем побережье, и мы «снимали» девочек прямо от их кавалеров, просто задерживая на них лишнюю секунду взгляд. В духоте и тесноте танцевального барака выросла мне навстречу рыжая в кудряшках красавица со странно знакомым лицом. Я вынул ее из толпы и под медленную музыку двух гитар и тромбона, обнявшись, мы тронулись в медленном танце и поплыли куда-то. Ее зрачки расширялись от каждого моего прикосновения. Я молчал и мы двигались почти обнявшись среди других пар.
- Ты одна?
- Нет.
- Не важно, - кто-то трогал меня за плечо, я сбросил руку, повернувшись, за спиной начинался скандал. Я слышал Мишкин голос, сказал ей, - Там, сзади, есть пожарный выход.
- Костя, - сказала она, - мы знакомы, мы даже учились в одном классе. Я Воропаева. Не помнишь? Воропаева!
Воропаева! Мы были на пляже, ночью, нас искал ее парень, мы слышали, как он кричал ее имя, а потом замолчал. Я долго шел с ней по пляжу и думал. Она что-то говорила, а потом перестала, прижимаясь головой к моему плечу. Cделав почти полный круг и вернувшись обратно к танцплощадке, я сказал ей:
- Извини, но оказалось, ты тогда, в детстве, обидела меня так, что я не могу через это переступить. Я неделями видел тебя во сне, я придумывал слова, чтобы сразить тебя наповал, я строил планы мести, и месть была сладка. Я думал, что давно забыл и тот случай, и тебя. Я не помню большинства причиненных мне обид, а эту помню. Иди, найди парня, с которым пришла и соври ему чего-нибудь, - и мы расстались на пляже с Воропаевой, которая, тряхнув волосами и качая бедрами, пошла искать парня, с которым пришла, чтобы соврать ему что-нибудь.
А я пошел мимо танцплощадки, мимо железнодорожной станции с пьяными мужиками и запахом щей и пива, пошел на Финляндскую улицу, где жила Гуля. Я каждый день ходил мимо ее дома, туда-сюда, в одну сторону, в другую. И косым взглядом старался заглянуть к ней в окно, а потом опять смотрел на дорогу, будто меня ничего кроме дороги не интересовало.
Ах, Гуля, Гуля, Гуля, Гуля! Я влюбился в тебя, когда мне было восемь лет. Когда мне было девять, я впервые в жизни испытал муки ревности, когда увидел тебя, тоже девятилетнюю, качающуюся на качелях с соседним мальчишкой. Я прятался и следил за тобой и твоей лучшей подругой Нелей Дризиной, будущей Кобзон, как вы играли на полянке в мяч, играли в пинг-понг у тебя на даче, ходили загорать и купаться на берег финского залива. Каждую осень ты исчезала из моей жизни, чтобы с началом лета снова войти в нее и заполонить ее всю, без остатка. Я в жизни никого так не ревновал, как тебя.
Уже тогда ты была ослепительно хороша. Когда ты стала старше, тебя писали художники, тебя боготворили актеры, режиссеры, музыканты. Тебе посвящали стихи, в тебя влюблялись все, совершенно все, куда уж было тебе заметить меня. Я был так незначителен в водовороте твоей жизни. Кто бы мог подумать, что через тридцать лет ты станешь моей женой, вырастешь в настоящего друга, в железную мою опору.
У твоего подъезда всегда стояла вереница машин, а в твоей комнате слышалась музыка, смех и веселые голоса. Приносит ли красота счастье? Праздный вопрос. Ни тогда, когда я расстался с Воропаевой и страдал под окнами твоего дома, ни много-много лет после того, встречаясь и расставаясь с тобой, встречаясь и расставаясь со своей первой любовью, с самой красивой девушкой, которую я когда-либо в своей жизни видел, с признанной первой красавицей Ленинграда моей юности, я не задавал его себе. Какое мне было до этого дело! Ах, Гуля, любовь моя! Нелегкая у тебя оказалась судьба. Долгий путь прошли мы оба, пока не нашли друг друга, пока не стали тем, кто мы есть.
Глава 9.
Частные проблемы
А Шурик Волынский съел школьный гербарий. Его собирали, собирали по колоску, начав еще до революции, еще до того, как родился Ленин. А вот Шурик его взял и съел. Не весь, конечно, но все, что ему показалось съедобным. Вообще-то не надо было Шурика в наказание за какой-то очередной проступок оставлять в кабинете природоведения. От Шурика всегда чего-нибудь можно было ожидать. На такого, чтобы он съел гербарий, от него не ожидал никто. Выяснилось, что Шурик был голодным. Его мама, Мила Волынская, морила семью голодом. То есть она так не считала, но и Шурик, и его папа Женя, оба все время искали, где бы чего съесть. А тетя Мила была очень строгая, и следила за ними. Она была внучатой племянницей Мандельштама, и хотела, чтобы ее семья была достойна ее великого предка.
Мы с Шуриком дружили на почве книги Льва Кассиля «Швамбрания». Мы придумали свою страну «Швабр-анию», и в невероятно длинных, извилистых и плохо освещенных коммунальных коридорах квартиры, где жил Шурик, ставили ловушки соседям. Например, банку с водой на косяк двери, чтобы, как только дверь откроется, сверху на входящего вылилась банка воды. Или поймаем и тихонько притащим трех дворовых кошек, и запрем их в туалет, который, конечно, был один на одиннадцать проживающих в этой комуналке семей. Хорошее было время, но скоро кончилось. Почему-то мы с Шуриком раздружились. А может, просто одному из нас надоело вылавливать мясо из борща соседей, прятать его в кастрюльку других соседей и смотреть, что будет.
Ушел Шурик. Потом несколько раз возвращался, но это был уже не Шурик, а Шура, Саша, Александр, потом Александр Евгеньевич. Еще помню, как в десятом классе в мою жизнь вошел мой тезка, мы его Котя звали, чтобы различать. Костя и Котя, друзья навек. После сдачи последнего экзамена мы с ним сидели у них на кухне, ели и говорили о том, как мы теперь по жизни вместе пойдем. Я ему говорил, что мы с ним, как Герцен и Огарев, как Карл и Маркс, как Сцилла и Харбида. А он мне, что я его лучший друг и он клянется, что других ему не надо. Его мама говорит вдруг: «Вы ребята не клянитесь. Жизнь, странная вещь. Сегодня вместе, а завтра, может быть, врозь».
Помню, мы оба на его маму обиделись невероятно. Мы даже есть перестали и поклялись друг другу со слезами на глазах, прямо при маме при его, в вечной дружбе. И так себя хорошо от этого почувствовали, что съели еще по одной порции салата «Оливье». После этого, я Котьку ни разу в жизни не видел. То есть мы перезванивались, даже договаривались встретиться в скором будущем, но у него началась своя жизнь, а у меня своя.
Снова появился Мишка – на два дня рождения. Его и мое. И пропал. Успел только ошеломить чернотой глаз, смехом, ненасытностью. Но он уже тогда становился человеком, а я все еще колупался в «Гулливерах», в Жюле Верне и графе Монте Кристо. Нам еще было скучно друг с другом. Еще не пришел наш час.
Мишкин день рождения случился в апреле, потом мой – в сентября. Между ними было лето. Один учебный год кончился, начался другой – все выросли, загорели, хвастались драками, заплывами, умением кидать мяч в «корзину», обманными «финтами», велосипедами.
На груди у всех красовались красные галстуки – мы перешли в шестой класс и начали интересоваться делами пионерской дружины. Семиклассники готовились в комсомол, восьмые классы были заняты подготовкой к выпускным экзаменам из средней школы. Мы выходили на первый край борьбы за сбор макулатуры, железного лома и пузырьков. Пионервожатая собрала нас и сказала:
- Партия, правительство и весь советский народ ждет от вас энтузиазма и верности делу Ильича. Эту верность вы в четверг должны будете подтвердить собиранием железного лома. А для чего стране нужен железный лом? Чтобы переплавлять его на железо!, - сообщила нам наша любимая пионервожатая Рита, - А потом сталевары нашей Родины сделают из этого металла самолеты, танки и много других полезных народу вещей.
- А перегородку можно сделать?, - спросил Саша Берлин.
- Перегородку? Зачем?, - удивилась старшая наша пионервожатая.
- Очень полезная вещь – перегородка, - сообщил Саша, - а то мы спим все в одной комнате. А мне свет мешает. Я заснуть никак не могу. И уроки негде делать. А когда папа маму бьет и они по комнате бегают, сестры очень пугаются, а куда я их возьму? На улицу? Пусть отец лучше мать за перегородкой бьет.
Но пионервожатая не думала, что из собранного нами металлолома сталевары нашей страны станут делать перегородку в комнате Берлина.
- Это проблема частная, - сообщила она, – страна не может уделять внимания частной проблеме! Особенно, и это я хочу, чтобы вы все поняли, когда прямо перед нами стоит ярый враг социализма – лагерь капиталистов! За что борется наша страна?, - спросила пионервожатая.
- За мир!, - ответила ей Леночка Шифрина, сидевшая на первой парте.
- Кто против мира?, - снова задорно спросила пионервожатая.
- Капиталисты!, - ответили вместе из разных концов класса Андриенко и Николаенко.
- Отлично! А ну-ка, все хором: Кто-враг-мира?
- Капиталисты!, - ответил хором класс.
- А какая система управления в нашей стране?
- Дик-та-ту-ра про-ле-та-ри-а-та!, - проскандировали мы.
- А какое общество строит пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством?
- Самое справедливое в мире, - нестройно, но громко прокричали мы. Рита слегка поморщилась от неточности ответа и подсказала: Ком-му…, - и мы закричали еще громче: Коммунистическое! Коммунистическое!
Тогда Рита повернулась снова к Саше Берлину и, смотря на него в упор, спросила: Вот подумай сам, подумай хорошо, станет ли пролетариат и беднейшее крестьянство, занятые такой громадной задачей, отвлекаться и начинать строить Саше Берлину перегородку? Советский народ трудится для всех, а не для одного, ясно?
- Это при царе для одного трудились, - добавила Леночка Шифрина и заулыбалась Рите. Леночка очень хотела быть выбранной в совет пионерской дружины. Она твердо знала, что свободный выбор одноклассников остановится на кандидате, предложенной старшей пионервожатой.
На перемене один очень серьезный мальчик, Марик Комиссарчик, подошел к Саше Берлину: Чего это ты с глупостями со своими полез?, - спросил он его, - какие отношение имеет перегородка к этой дуре и к сбору металлолома?
А Саша Берлин стал раскорячку, сделал дурацкую такую морду и сказал (я это, проходя, слышал). Он сказал:
- Комиссарчик, ты такой же дурак, как Рита, только наоборот, - я это случайно услышал и стал думать над тем, что он сказал. Берлин-то был не дурак, это я точно знал.
И вот что я подумал: мой папа никакого коммунизма не строит и не собирается, мама тем более. Родители Берлина, судя по всему, тоже. У Комиссарчика папа про коммунизм такое говорил, что не приведи господи услышать. У Мишки Аптекмана папа в Госконцерте на рояле играл и пел частушки со сцены, а мама (Мария Борисовна) частушки эти сочиняла, а на досуге работала эндокринологом в районной поликлинике. И вот не верю я, что эндокринолог, если он в своем уме (а Мария Борисовна была в своем), может всерьез собираться строить коммунизм. В общем, получалось, что никто, ну совершенно никто не строил его и не собирается.
С другой стороны, перегородка у Берлиных (да и жить целой семьей в одной комнате!) – это частная проблема. То, что у Миши Вольфсона туфель целых не было, а новые купить было не на что, частная проблема, то есть все проблемы, которые были у каждого из нас и у наших родителей – проблемы частные и ими «народ» не занимается, потому что это может отвлечь его от строительства коммунизма. Но, с другой стороны, коммунизма этого никто не строит. Тут у меня закружилась голова, и я перестал думать об этом. Да ну их! Всех.
Гораздо интереснее было думать о Вике Маклецовой. На тот самый день, когда пионервожатая Рита назначила сбор металлолома, у Вики должна была состояться наша первая самостоятельная классная вечеринка. Конечно, не весь класс пригласили, и мы немедленно разделились на два враждующих лагеря: «Приглашенных» и «Неприглашенных» (господи всемогущий, как много этих лагерей! Как часто я оказывался по одну из сторон баррикады, в то время, как совершенно не хотел принимать участие в чужих сражениях! Девочки – мальчики, кто победнее – кто побогаче, хорошие спортсмены и растяпы, евреи и неевреи, «городские» и «деревенские», с «той улицы» и с «этой», а теперь еще «приглашенные» и «неприглашенные»).
Среди «приглашенных» прошел слух, что Викина мама разрешила поставить на стол бутылку сухого вина. Этому, конечно, очень хотелось верить, и не потому, что кто-то из нас любил вино, а потому, что бутылка придавала происходящему какой-то взрослый оттенок. Вино стояло бы себе и символизировало, а мы бы, конечно, приналегли на лимонад и бутерброды.
Вечеринку готовили девочки, и это тоже было приятно. Старшие сестры, тети и мамы тоже всегда бегали в магазин, потом часами стояли на кухне, потом накрывали на стол, суетились, протирали что-то, и когда, в последнюю минуту перед приходом гостей бежали переодеваться, папы вставали с диванов и недовольными голосами осведомлялись: «Ты что еще не готова?!». Так жили наши родители, и так же готовились жить и мы.