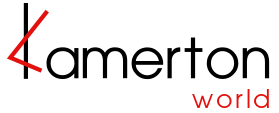Вступление
Деда своего я помню довольно смутно. Он умер, когда мне было семь лет. Но один разговор с ним я запомнил очень хорошо (а может быть, кто-то пересказал мне его потом и я только решил, что помню):
Мне пять или шесть лет. Я иду с дедом по улице. Мы подходим к перекрестку и останавливаемся. «Костя, – говорит дед, – по какому свету переходят улицу?». Я улыбаюсь легкости вопроса и говорю: «По зеленому». «Нет, – говорит дед, – по красному». «По зеленому», – убеждаю я его. «По красному» – говорит дед. «Неправда, неправда, по зеленому, – сержусь я. – Мне мама говорила. Вот зеленый зажегся, нам идти», и мы идем. Я торжествую. Дед улыбается: «Это с одной стороны светофора зажегся зеленый», – говорит он мне, когда мы переходим через улицу. – «А с другой стороны зажегся красный. Он зажегся и мы пошли». «Неправда, неправда!», – говорю я (может быть, не теми словами, но в том же смысле). А дед отвечает: «Ты когда постарше станешь, поймешь, если запомнишь. Постарайся запомнить про светофор. Это тебе пригодится в жизни».
Я запомнил. Мне пригодилось. И когда я писал эту книгу, пытался помнить. С этой стороны зеленый, с той красный. Я смотрю с этой стороны, и знаю, я шел через перекресток, когда горел зеленый. А кто-то смотрит с другой стороны, и поклясться может, что, когда я шел, горел красный свет. Можно так на светофор смотреть, а можно иначе, а потом можно головы друг другу проломить, доказывая свою правоту, в полной уверенности, что тот, другой, нагло, бессовестно лжет. Много я еще чего понял из-за этого светофора. А может и не было ничего. Может, я все придумал. Может, это мне все приснилось. Но за правду (как я ее вижу), я больше не размахиваю кулаками. Я пытаюсь того, кто утверждает истину, прямо противоположную моей, понять. Спасибо дедушка! Мне стало значительно трудней жить на свете.
Вот и все вступление.
Герои моего детства
По настоящему я начал помнить себя с шести, примерно, лет. До того только два ярких воспоминания стоят у меня в памяти, возвышаясь двумя одинокими утесами наряду с важнейшими событиями моей жизни. Оба воспоминания связаны с дальним севером, где отец служил военно-морским врачом. Помню его в кителе и в фуражке – очень красивого, очень мужественного, всегда улыбающегося. Хотя, впрочем, помню не его, а большую фотографию в спальне у родителей.
Первое мое воспоминание связано с крытым грузовиком, на котором ехало много народа. Я помню, что это был вечер, что вокруг был снег и что я обязательно хотел смотреть, как убегает земля из-под задних колес. И помню, что кто-то: то ли папа, то ли мама, не пускали меня сидеть у заднего борта. И помню, что я орал, но не очень громко, так как уже тогда стеснялся привлекать к себе внимание. Потом машина остановилась, меня сняли, поставили на землю, и я увидел большой двух- или трехэтажный кирпичный дом, стоящий посредине белого поля. Я только этот дом и помню по настоящему – как будто вокруг, во все стороны, сколько ни смотри, только снег, и посредине стоит этот красный кирпичный дом и все. Куда делся грузовик, сказать не могу. Думаю, уже уехал. Больше я ничего не помню. Наверное, я заснул, хотя, конечно, заснуть никак не мог – возбуждение от поездки, потом этот красный кирпичный дом, в котором меня ждал мой лучший друг Вигдорчик, вот ведь странная фамилия! Мама дружила с его мамой, а папа с его папой пили водку (но об этом я узнал позднее), и мне этот Вигдорчик достался по наследству. Вот и все воспоминания.
Второе воспоминание такое: вышел я из нашего дома гулять и вдруг начал падать снег, очень много. Я решил вернуться домой, дома не видно, ничего не видно. Тогда я сел и решил, что это Вигдорчик сделал – он любил кидаться снежками прямо в лицо. Я подумал (это я отчетливо помню): «Вот придет мама, я ей расскажу, что Вигдорчик в меня снегом бросал, она его маме скажет, а та его накажет, дома сидеть заставит. А я приду к нему под окна и буду гулять, бабу из снега лепить и даже скажу: «Эй, Вигдорчик, выходи бабу лепить».
Я так подумал тогда, закрыл глаза, чтобы мама видела, как меня мой лучший друг отделал, и так с закрытыми глазами и пошел домой. Дальше опять ничего не помню. Но мама рассказывала потом, что начался буран – совершенно внезапно налетел, ну никак его не ждали, в момент покрыл все снегом – ничего на метр не видно. Мама побежала меня искать, папа на санитарной машине с работы выехал срочно, чуть ли не с операции (думаю, сочиняет она насчет операции), сорок минут почти меня искали все соседи. Тут вдруг я на крыльце появляюсь с закрытыми глазами.
Мама уже думала, что меня засыпало, что я замерз уже, и ей вместо меня другого рожать придется. А рожала он трудно, да потом год и два месяца грудью кормила – не шутка. Но для меня в ее рассказе другое важно было: что я сорок минут сидел и мечтал, как Вигдорчика накажут. Сорок минут сидел в буране, а казалось, что присел только на секунду, да еще и удовольствие от картинок получал, которые себе представлял. Я конечно не тогда, а позже подумал так и взял это на заметку.
Вот, собственно, и все. Ну а по–настоящему помнить я себя начал с одного случая. До того – как дырка, а с этого момента вдруг отчетливо помню: слышу я мамин голос (еще не вижу ничего, еще в зрительной памяти засвеченные кадры идут). Мама мне говорит: «Костя, иди сюда». Я захожу в свою комнату: поднимаюсь на три ступенечки – комната была над парадной – и вижу одну тетку, мамину знакомую (маму еще не вижу, а ее уже вижу). И мама меня подводит к ней (по–моему, она взяла меня за руку), ставит рядом и говорит: «Ты не бойся». И тетка эта, мамина подруга говорит: «Да он и не боится. Он герой, он молодец» – а сама мне штанишки расстегивает и стягивает их вместе с трусами. Мама мне говорит: «Стой смирно», а тетка рукой с наманикюренными пальцами берет мое яичко и начинает его жать, мять, вертеть во все стороны, потом вообще все там мнет и вертит, а мама на нее смотрит и очень волнуется.
Я хоть маму и не помню тогда, но зато помню, что она то на яички мои смотрит, то на тетку и очень волнуется. А в комнате окно низкое, живем мы на бельэтаже, напротив остановка автобуса и, как всегда, полно народу. И мне кажется, что все к нам в окно смотрят. А подруга мамина говорит: «Я пойду руки помою» – «Ну что?» – спрашивает мама. «Все в порядке, – отвечает подруга. – Не беспокойтесь, все в порядке». Тут мама вынимает полотенце, говорит мне: «Натягивай штаны, чего ты стоишь со спущенными штанами». А мамина подруга смеется и говорит мне, подмигивая: «Он еще наделает делов, а?!», - и снова подмигивает. Потом они с мамой спускаются по ступенечкам и уходят – и вот с этого момента как раз я и помню все, что со мной было. Ну, может, несущественные вещи забыл, но главное помню.
Я тогда сел на подоконник, а окно было полукруглое, во всю стену, подоконник широкий, сел смотреть на детей, которые на улице играли – меня мама к ним не пускала. Это я тоже точно помню, что не пускала. Однажды, когда мы с Крайнего Севера (Верхняя Вайнга называлось то место, где мы жили, а Вигдорчики жили в Нижней Вайнге) переехали в этот город – город 3-х революций, город–герой Ленинград, – вышел я на улицу погулять и мне тут же, в нашем же дворе зафингалили камнем в глаз. «Господи, хорошо, что глаз не выбили», - сказала мама. И запустила-то девчонка, гнилая такая девчонка. Взяла камень и прямо мне в лицо кинула. Так вот, сидел я на подоконнике и смотрел, как все дети играют в казаков-разбойников, и та девчонка тоже. Сидел и думал: «Вот было бы у меня ведро с водой, я бы подождал пока она подойдет под окно, вылил бы воду на нее сверху. Она бы тотчас замерзла, как сосулька. Тогда бы я подошел и пописал на нее. От струи на снегу остается глубокий желтый след, а ото льда, если наловчиться, можно целый кусок отколоть, как ножом, если по одному и тому же месту много раз водить». Я так размечтался, что не услышал, как меня мама зовет ужинать. Я тогда толстый был и много ел, больше, чем нужно было.
Гулять мне разрешали в «Летнем саду». Туда наша домработница возила коляску с моим младшим братом. Вот совершенно не помню, был ли у мамы живот, зато, как папа с приятелем, оба пьяные, взяли меня с собой под окна в родильном доме кричать, это помню. Они кричали оба какие-то глупости, но наверное, смешные очень, потому что оба смеялись, а я стоял и молчал, и мне казалось, что из всех окон именно на меня смотрят и головами качают. А потом пришла милиция и стала папу с другом выгонять от роддома, и мы пошли в рюмочную напротив. Там давали рюмку водки с маленькими бутербродами. Игорем звали папиного приятеля. Игорь Левин. Я его серым волком звал, уж не помню, почему.
А вот соседкин живот хорошо помню – я к ней подошел и говорю: «Ты очень потолстела. Кушай меньше». Тут она смеяться начала и всем соседям рассказывала, какой я глупый. А потом родила девочку, ужасно противную, кстати, вот и рассуди, кто глупый, а кто нет.
Водили меня гулять всегда в одно и то же время и всегда в одном и том же бархатом костюмчике красном. А когда стало холодно, одевали сверху еще серую курточку с двумя якорями на погонах. Однажды хожу я по Летнему саду, домработница с другими домработницами сидит, разговаривает, а я хожу и желуди собираю. Вдруг подъезжает ко мне мальчишка на велосипеде – волосы черные, растрепанные, сам грязный – тормозит, велосипед на землю бросает, подходит ко мне, я остановился конечно, и говорит: «Отдай мне это», - и пальцем в якорь тычет.
Я ему говорю «Нет», а он мне: «Почему?». Я говорю: «Я не могу». Тогда он достает из кармана гаечный ключ и говорит: «Махнемся». «Нет», - говорю и хочу отойти, но он достает гвоздь расплющенный на рельсах под трамваем и говорит: «Я еще гвоздь дам» - «Нет». Тогда он бросает ключ и гвоздь на землю и начинает вынимать из кармана какие-то железки, шарики, окурок, одну половину от ножниц, крючок, пуговицы, кричит: «А это? А это?», и кидает все это на землю, а сам дышит, как паровоз. Я ему говорю: «Нет, я не могу». Тогда он плюет в сторону, шипит какое-то слово, которое я тогда не понял и потом говорит: «Проваливай отсюда, интеллигент».
И «интеллигента» этого он так презрительно мне бросил, что я тут же подумал, что никакой я не интеллигент и никогда, конечно, им не стану. Я ушел тогда, но очень расстраивался, потому что велосипеда у меня не было, кататься я ужасно любил и с удовольствием сделал бы пару кругов на его велосипеде, но просить у него уже конечно нельзя было после якоря этого дурацкого. Наверное, надо было ему якорь этот отдать, а маме сказать, что потерял, но я тогда сразу не сообразил, а потом он пропал куда-то, этот тип с велосипедом. А я пошел к пруду, сел на скамейку и стал кидать желуди в воду лебедям. Им уже холодно было, так они почти и не плавали, на досточке сидели у берега, ждали, когда их вынут и на зиму в теплый домик посадят.
Я одного очень не любил - с черной отметочкой на шее. Остальные белые, а этот с черной отметинкой, вот я в него и кидал желуди. Все мальчишки в него кидали, так что он уже привык к этому, наверное. Он, может, считал, что он им нравится и они так свое расположение выказывают.
А вечером того же дня мама меня почистила, помыла, одела снова в красный бархатный костюмчик и повела через дорогу, знакомить с «одним чудным мальчиком» – сыном той подруги, что меня щупала. Мама позвонила в дверь, нам открыли и через длинный-предлинный коридор коммунальной квартиры мы пришли к двери, из-за которой вышла эта самая врачиха, а потом за ее спиной показался в точно таком же как у меня красном бархатном костюмчике, тоже причесанный и помытый велосипедист из «Летнего Сада».
Он вылез из-за ее спины и сказал «Меняться пришел? Накось, выкуси!». Потом мы пошли в его комнату, где он одел мне на голову коробку из-под торта и заставил играть с ним в летчиков. Я был штурманом и прокладывал курс, а он командовал, куда нам лететь. Потом его мама сказала ему играть на рояле, а моя мама, конечно, ответила, что я чудесно читаю стихи.
Лет через пятнадцать после этого, когда нам надо было девочек в постель уложить, мы зажигали свечи, Мишка начинал импровизировать на рояле, а я подстраиваясь под настроение, рассказывал сочинение тут же на месте сентиментальный истории. Мы называли это «милодекламацией», и еще странным словом «закид», и за исключением одного единственного раза действовало это безотказно. Девочки вообще вставали и шли на рояль, как слепые, когда Мишка начинал играть. У него были гиппотические пальцы и как кролики на удава падали на него самые что ни на есть лучшие девушки моей юности.
Мы с Мишкой решили дружить не на жизнь, а на смерть, но месяца через полтора, зимой уже, пошли с ним во двор соседней школы кататься на коньках. У меня все время подгибались ноги, и я больше стоял на снегу, а Мишка ковылял по двору, находил сосульки и сосал их. Там во дворе была она девчонка, которая каталась лучше всех. Она так каталась, что все на нее смотрели. Ездила на одной ноге, прыгала с поворотом, кружилась. Я смотрел на нее и думал: «Вот сейчас я выеду. Тоже прыгну, буду кружиться и все будут на меня смотреть, а я проеду круга два, потом подъеду к ней и мы с ней вдвоем будем кататься по самой середине. И кружиться, взявшись за руки».
Но вдруг я почувствовал, что падаю. Это Мишка подставил мне подножку, а когда я упал, сел мне на грудь и стал совать в рот льдинку. Я пытался столкнуть его, но не мог, а он смеялся и кричал: «На, съешь, съешь!». Во-первых, он нечестно мне подножку подставил, а во-вторых, девчонка эта как раз со двора уходила и мимо нас прошла, но она на Мишку никакого внимания не обратила, хотя он очень кричал и совал мне в рот льдинку. Очень он был ей нужен! Мишка с меня слез и даже руку мне дал, чтобы помочь встать, но я без него встал и пошел домой, потому что решил с ним больше не дружить. Не дружил я с ним, не дружил часа четыре, а потом опять стал дружить.
То ли после знакомства с Мишкой, то ли до, был у меня еще такой случай летом на даче: собрались все дети за сараем и стали друг у друга рассматривать что у кого в трусиках. Я тоже рассматривал у одной девочки, а она у меня. Потом об этом узнали родители и все искали зачинщика (я то всего один раз рассматривал, а они, оказывается, каждый день за сараем собирались).
Эта «дачная» история помогла мне понять следующее Мишкино сообщение: приходит он однажды ко мне и говорит: «А знаешь, что все взрослые делают по ночам?… Мужчины пипку женщинам в дырочку засовывают, и так лежат», а я хоть после лета уже знал разницу между мужчиной и женщиной, но Мишку не понял. «Зачем?», - говорю я, а сам не верю, конечно, ни одному его слову – он всегда меня разыгрывал, ну, а я его. «А я откуда знаю?», - говорит Мишка. – «Мне две девочки сказали из четвертого класса».
Тут уж я во все поверил конечно, хотя деталей все же не очень понял. А еще я страшно позавидовал, что у Мишки есть такие взрослые знакомые из четвертого класса. «Неужели все?», - спросил я. Мишка помолчал, а потом сказал: «Ну, твои родители, конечно, нет. И мои тоже нет, а все остальные точно да». Тут он посмотрел на меня косо, он так любил смотреть – вдруг и косо – и говорит: «А вот что ты мне скажешь, если мужчина засунет так пипку и лежит, а ему вдруг ужасно писать захочется, что будет?». Я смотрел на него во все глаза, он как бы с новой стороны открылся мне: мыслителем, исследователем, и я, замер, ожидая ответа.
Миша, как я стал замечать после этого случая, иногда задавал вопросы, на которые никто ответить не мог. Вообще никто. Например, “если слон на кита взлезет, кто кого сборет”? Или, “а что будет, если подводная лодка наскочит на военного корабля”? И не успокаивался, пока не получал ответ. А тут он мне сказал: «Никто этого не знает, даже девочки из 4-го класса». «А ты знаешь?», - спросил я. «Нет еще, но я обязательно узнаю».
Ответ, который он мне сообщил через 2 недели, звучал примерно так: «Они туда писают и от этого рождаются дети, понял?». Он сказал это так, будто мы спорили, а он выяснял и оказалось, что он прав.
Еще Мишка обожал «путешествия и приключения» и всегда говорил мне, что будь его воля, стал бы он машинистом, либо поездным кондуктором, на худой конец, и ходил бы в фуражке по вагонам, а не учил бы гаммы целыми днями, как его заставляла его мама.
Ему запрещали играть в волейбол, драться, копать руками червей для рыбалки – словом, все, что могло повредить его драгоценным музыкальным пальцам. Поэтому Мишка все свободное время играл в волейбол, дрался, вытачивал ножом деревяшки, запускал руки во все видимые отверстия, был всегда порезан, исцарапан, грязен неимоверно, но у матери его характер был не хуже его, так что ежедневно в одно и то же время он садился за рояль и играл свои «тa-ра-та-та».
В те четыре часа, что мы «не дружили» после того случая во дворе, я так мечтал: я беру Мишку, нагибаю его так, что голова его оказывается у меня между ног, спускаю с него штаны и бью его по голой заднице палкой. А на палке сучки. Из окна напротив высовывается та самая девчонка с катка и смотрит. И еще много девочек и мальчиков высовываются из окон и смотрят. Потом он бежит от меня и кричит, а я сзади него, и бью его палкой по спине и по бокам…. потом изображение пропало и остался только один голос: «Скоро Костя произойдет очень важное событие в твоей жизни. Ты пойдешь в школу». И тут я не выдержал и побежал к Мишке хвастаться, что я пойду в школу, но оказалось, что он тоже, да не в простую, как я, а в музыкальную.
Нет, до школы еще об одном, о “группе”. Нас было 5 или 6 детей у тети Сони. Она водила нас гулять, играла с нами, поила чаем и учила читать. Из-за нее, из-за тети-сониной группы, мне совершенно нечего было делать на уроках в школе и два полных года я сидел просто так, и машинально отвечал на вопросы учителя. Мне было скучно, я все знал.
Я не помню уже тетю Соню, не помню ни где она живет, ни как она выглядит. Не узнаю никого из тех, с кем я вместе учил первые буквы, и когда толстый студент медицинского института подошел ко мне на вечеринке и стал уговаривать, будто я ударил его лопаткой по голове во время занятий в «группе», я согласился с ним только для того, чтобы не обидеть.
Но помню Киру! Кира, моя первая любовь! Я забыл, как ты выглядела. Были ли у тебя две косы? Одна? Короткая стрижка? Была ли ты худенькая, либо толстушка? Веселая или грустная?… Не помню. Знаю только, что ты была моя первая чудная чистая детская любовь. С тобой я мечтал встретиться десятки лет. Сердце мое сладко замирало, когда казалось, будто идущая впереди женская фигурка – ты. Я находил тебя и терял в каждой случайной встрече. Кира, мой пропавший ангел.
Думаю, что тип женщин, нравящихся мне, сложился в значительной степени под влиянием Киры. Ах, Кира! Этот, который получил лопаткой по голове, утверждает, что я напал на него сзади, напал подло и коварно. В тот момент, когда он собирался засунуть червяка за воротник какой-то девчонке, которую мы оба ненавидели и изводили как могли. Но что его возмущает по сей день, так это то, что за минуту до предательского удара я засунул этой девчонке за воротник горсть сухих листьев. Он пытался через 15 лет разобраться в произошедших тогда событиях, этот толстый студент стоматологии. Я вспомнил его под конец – он хуже всех в группе читал и вечно портил воздух.
Кира! Я все думал, как мы вместе с тобой будем читать книжку “Айболит” и как я буду, почти не глядя на буквочки, произносить слова и вовремя переворачивать страницы. Для тебя, Кира, выучил я ее наизусть, эту увлекательную книжку, историю моей любви. Куда ты ушла? С кем читаешь «Айболита»? Читай с кем угодно, но только не с Мишкой. О, к нему я ревную страшной ревностью! Только не с ним! Но он не был в нашей группе и я никогда не рассказывал ему о тебе, Кира.
Я думал тогда, что ушедшее не возвращается. Мишка, мой будущий лучший друг, пока я любил Киру, ты ездил по Летнему саду на своем разбитом велосипеде, собирал гайки, крючки и железные пуговицы, потому что тебя выгнали из детского сада. В первый день, когда их, стайку перепуганных детей, собрали вместе, воспитательница, полная ласковыми улыбками, прощебетала: «А кто из нас умеет рассказывать стихи и сказки? А кто умеет танцевать? А кто умеет петь?». И тут Мишка, гордый сознанием своего первенства, шагнул на середину комнаты и громко сказал: «Я!». «Что ты умеешь, деточка?», - спросила его воспитательницы, улыбаясь без предчувствий. «Я спою», - простодушно предложил Мишка. «Сейчас Миша нам споет», - сказала воспитательница.
Миша нашел табуретку, поставил ее в центре комнаты, в которой на стульчиках сидели испуганные дети, кудахтала воспитательница, а две нянечки разливали в кружки молоко и намазывали маслом бутерброды. Миша посмотрел на них на всех с высоты табурета, шмыгнул носом и неожиданно высоким голосом запел: «Гоп-стоп Зоя», и хотя у воспитательницы была возможность прекратить пение, стащить его с табурета, отменить концерт и заткнуть бутербродами детские рты, она все еще ничего не поняла, а улыбалась до ушей, уже пропустив этот момент, свою последнюю возможность. И с табуретки до нее донеслось: «Кому давала стоя в чулочках, что тебе я подарил…». Дуры нянечки стояли с открытыми ртами, дети испуганно жались в стульчики, а Миша уже бежал позади воспитательницы, влекомый по коридорам детского сада в кабинет директрисы. Из других комнат слышались песни «Елочка», «Во саду ли, в огороде» и даже матросский марш, но этих песен Миша не знал. Его ли это вина?
Директриса сразу же позвонила Мишкиной маме:
- Мария Борисовна, знаете ли Вы песню «Гоп-стоп Зоя, так кажется?, - (Еще бы не знать, если к трем куплетам этой бандитской песни 20-х годов именно Мария Борисовна и никто иной приписала еще пять, и доказала, что по сравнению с ней тюремные зеки были наивными и неискушенными гимназистками).
- Ну пожалуйста, ну если можно, он больше не будет, я ему все объясню.
- Объясните? Что Вы ему объясните?! – волновалась директриса, - немедленно забирайте его отсюда!
- Ну хоть до вечера!
- Нет, нет, нет, ни секунды. Я запрещаю ему контактировать с другими детьми!
А пока Мария Борисовна ехала забирать сына, молоденькая воспитательница, приставленная сторожить Мишу и охранять от него других детей, попросила его еще раз тихонечко напеть ту самую песню. Петь Миша согласился, но когда они зашли в пустую комнату, он вытащил табуретку на середину, залез на нее и оттуда в полный голос проорал: «Я ль тебя не xолил, я ль тебя не шмолил, я ль тебя, паскуду, не любил». Воспитательница, ежеминутно оглядываясь и нервничая, строчила слова песни в блокнот. Закончив, Миша слез, поставил табуретку в угол и сел ждать маму, иногда плюясь через отверстие между передними зубами прямо на изображение друга детей – Феликса Дзержинского.
Итак, вот они, герои моего детства – сначала атлет Вигдорчик в запорошенной снегом Вайенге, затем ехидный Мишка в Летнем саду на велосипеде. Вот он крутит педалями по тропинкам моей памяти. А теперь простодушный Коля Горохов, мой школьный друг, сосед по парте, моя пара на переменках. Коля Горохов, готовый всегда доесть винегрет, взятый в школьном буфете. Коля Горохов, мама которого научила его говорить, будто их дедушка приехал из Италии строить город Петербург, и остался здесь жить, женившись на русской, поэтому он, Коля, так смугл, черен волосами, длиннонос и похож на еврея.
Ах, Коля, Коля Горохов с папой Йоффе, с добрым, старым, уютным папой, придумавшим специальные машины для починки высоких ленинградских фонарей. Мы так радовались, когда видели на улице эти машины. Мы говорили всем-всем: «Смотрите, эти машины придумал папа нашего одноклассника Горохова, Иосиф Израилевич Йоффе». Эй, итальянец, отзовись! В какой ешиве чертили твои предки мистические знаки каббалы?