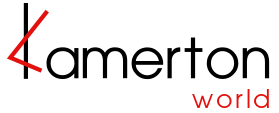Глава 5
Дети рабочих
Песня, которую мы разучивали всем классом, готовясь стать пионерами, начиналась так: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих». Образ костров со снопом искр, взрывающих темную, синюю ночь, отчего она еще более сгущается за спинами сидящих у огня пионеров, очень мне нравился. Смущало только одно – «дети рабочих». Ни папа, ни мама, ни двое дедушек, ни даже обе умершие мои бабушки не были рабочими. Мы с Колей посоветовались и, так как он находился в том же щекотливом положении, решили никому об этом не рассказывать. Мы оба очень хотели быть пионерами, а учебник по истории с картинками и рисунками убеждал нас, что всякие там врачи, инженеры и даже (о, ужас!) учителя были врагами революции. Они не то, что мешали, но и не помогали рабочим и крестьянской бедноте совершить революцию. Я очень любил свою маму и своего папу, Коля тоже, но они были «интеллигенция» (я со времен знакомства с Мишкой в Летнем саду не любил это слово, а тут еще Татьяна Осиповна объяснила нам, что есть два трудящихся класса, а между ними тоненькая, необходимая пока, но и не имеющая исторического значения, прослойка – интеллигенция), причастие к которой могло явиться неодолимым препятствием на пути к красному галстуку.
Ах, как прав был Мишка тогда в Летнем саду. Как прав! Как ужасно было быть «интеллигентом». Вот у Локтева-Загорского папа был рабочий, а мама швея. Даже у рыжего мама оказалась в порядке – продавала рыбу. А у нас с Колей нечем было похвастаться и мы старались держаться в тени. Локтев каждый день собирал вокруг себя слушателей и рассказывал, как папа пьяный приходит с работы, как бьет мать братьев и сестер Локтева, как ругается последними словами и ложится спать прямо в сапогах. Локтев ничего не сочинял, так как мы, думая уличить его во лжи, притаились как-то в их дворе и видели, как совершенно пьяный отец возвращался с работы домой и изо всех сил горланил песню «Скромненький синий платочек падал с опущенных плеч, ты говорила, что не забудешь наших…». Тут его стошнило, он постоял, качаясь, смотря на свои забрызганные брюки, и, икая, зашел в парадную. Сомнений не оставалось: Локтев был «дети рабочих», а мы – нет.
В том, что «не все в порядке в доме Облонских» убеждали меня и ежедневные детские радиопередачи и журнал «Костер», в котором каждый советский школьник, начиная с четвертого класса, обязан был выписывать. Это же объяснила нам пионервожатая, которая проводила с нами беседы о строении и значении пионерской организации, и мы все принесли из дома по 3 рубля и получали этот журнал раз в месяц. Папу на работе обязали выписывать газету «Правда», маму «Блокнот агитатора», а я стал подписчиком «Костра». Брату моему было тогда 3 года, и он ничего не выписывал, но мы давали ему посмотреть картинки, а мама даже разрешала рвать листочки из «Блокнота». Этих «Блокнотов» у нас в туалете лежала целая куча. Квартира была большая, коммунальная, и по крайней мере, в 4-х семьях был кто-то, кого обязали его выписывать. А в один год нашему соседу, милиционеру Витьке, приходило по 12 «Блокнотов» за раз. Это его сослуживцы пошутили и все выписали «Агитатора» на его адрес.
А когда настал знаменательный день и в наш класс пришли вместе со старшей пионервожатой председатель Совета пионерской дружины школы, да еще с тремя членами совета дружины, и попросили вставать по очереди и рассказывать свою автобиографию, мы с Колей решили объявить себя детьми рабочих Кировского завода, погибших, защищая родину во время Великой Отечественной войны (мы еще поспорили, т.к. Коля хотел сказать, что мы братья, а наши родители – революционеры), а потом нас взяли из детского дома на воспитание нынешние родители, которых мы любим и уважаем, но понимаем, что их историческое значение прошло.
«Мы вас даже не за вранье отклоняем сейчас, - объяснила нам потом пионервожатая, - а потому, что вы арифметики не знаете. Как вы могли родиться у родителей, погибших во время войны, если вы оба родились через четыре года после нее. Вам по 10 лет, а сейчас 59-ый. Ну, сколько будет 59 минус 10?». «49», - посчитали мы с Колей. «А война кончилась в 45-ом», - и пионервожатая обидно хлопнула меня по лбу. По пути из школы домой мы все-таки пришли к выводу, что виновата не арифметика (Локтев-Загорский ее совсем не знает), а наше непролетарское происхождение.
Но затрубят трубы – пионерские горны. Ровными рядами выстроятся пионеры, а впереди них красное знамя. Второй и третий раз затрубит горн, и выйду я в самом красном из всех красных галстуков мира. Салютую знамени, становлюсь смирно. Бьют барабаны. Я иду впереди, четко чеканя шаг, сзади развевается знамя, за знаменем колонная пионеров. Мы идем по улицам, светит солнце, птички поют (все точно так, как написано в журнале «Костер». Мы выходим на площадь. На площади на трибуне стоят горячо любимые нами деятели партии и правительства. Я кричу: «Да здравствует родная коммунистическая партия!». Меня слышно по всей площади и все пионеры кричат «Ура!», а потом кто-то с трибуны говорит: «Да здравствует славная ленинская пионерская организация!». И мы все вместе снова кричим «Ура! Ура! Ура!».
Сердце мое было полно любви к родной пионерской организации, не смотря на то, что меня в нее не приняли. Но я верил, что в самое ближайшее время ошибка будет исправлена. Когда я думал о красном галстуке, который тремя концами своими символизирует единство пионеров, комсомола и партии, мне становилось тепло от одной возможности принадлежать к этому союзу.
Я заметил, что после того, как я думаю о пионерской дружине, на моих трусиках появляются белые пятнышки. Чем чаще я о ней думал, тем больше пятнышек появлялось. Мне почему-то становилось стыдно, и я никому, даже Коле, ничего не рассказывал, но в школе нам говорили, что мы должны как можно больше думать о той заботе, которую проявляет наша партия и государство по отношению к детям, и радоваться, что мы живем в стране, в которой так заботятся о подрастающем поколении. И я, превозмогая стыд, думал и радовался, что не родился в Америке или Швейцарии, например, а родился в первом коммунистическом государстве в мире. Думал я в классе, думал, гуляя по Летнему саду, думал, когда оставался один дома. Думал так восторженно и радостно, что дыхание затруднялось и слезы наворачивались на глаза.
Я думал о красном галстуке и портил трусики. Начинал думать о революции и пачкал школьные брюки. Сгорал от любви и преданности к партии и тек. Но настоящее извержение вызывали у меня мысли об основоположниках мирового революционного движения: Владимире Ильиче Ленине, Фридрихе Энгельсе и Карле Марксе.
В мыслях о строительстве нового типа советского человека и проходило мое детство.
Глава 6
Евреев не трогать
А теперь о женщине. Да здравствует советская женщина! Женщина-труженица! Женщина, не знающая, что такое тампон, не имеющая страшного дефицита - ваты, презервативы покупающая для обещавшего навестить сослуживца после трехчасовых изнурительных поисков по городу (из-под полы и за тройную цену). Да здравствует красавца в байковых трусах, не имеющая понятия о существовании питательного крема, моющаяся в бане раз в неделю, в жизни не видевшая ночной рубашки и пеньюара. Прости меня, не тебя виню!
Да здравствует! Только мысли о ней вплетались иногда в мои мечты о красном галстуке и уводили меня куда-то в сторону к темному и опасному омуту, на границу которого я боялся ступить. Там скрывалось что-то, что было значительно важнее и интереснее, чем школа, уроки, еженедельные политинформации и журнал «Костер», который кстати «об этом» не писал ни слова, как, впрочем, не написали и газета «Правда», «Блокнот агитатора» и даже журнал «Работница», который заставили выписывать соседку, и который тоже всегда можно было почитать в туалете.
Но вот что-то не понравилось моей маме в школе № 191 нашего микрорайона. То ли в этой «средней» школе были плохие преподаватели, то ли лица моих соучеников не вызывали в ней симпатии, не знаю. Но учиться в 5-й класс я был переброшен гораздо дальше от дома в образцовую школу № 171. Мама вела меня за руку и так, ладонь в ладонь, мы подошли к зданию на ул.Маяковского как раз тогда, когда двое рабочих отбойными молотками сбивали со стены школы барельеф Сталина. Барельеф был над самым входом, сверху летел цемент и куски штукатурки, но мама не захотела ждать и мы вошли, запорошенные пылью отца народов Иосифа Виссарионовича Сталина, стряхнули эту пыль на пороге вестибюля и вошли в новую жизнь.
Класс, в который меня определили, был особенный. Не знаю, кому в голову пришла столь причудливая идея, но лучших учеников начальных классов этой школы, а также переведшихся в «образцовую» школу отличников из других микрорайонов, собрали в один класс вместе с самыми заядлыми двоечниками. Поэтому в классе оказалось 12 евреев, 12 второгодников и 4 украинца. Неизвестно, под какую категорию попали украинцы и откуда они взялись в таком количестве в центре города Ленинграда, но они явно не вписывались в общую картину. Поначалу двоечники быстро организовались, оценили обстановку и в классе установился жестокий террор.
Миша Тутин, через два года после того посаженный в исправительную колонию за грабежи со взломом, очень скоро обнаружил, что некоторые мамы снабжают своих деток бутербродами со всякими вкусными вещами. Поэтому, к концу первой перемены он завершал обход портфелей соучеников и спокойно выходил из класса с захваченной добычей, вежливо здороваясь со входящим учителем.
Его лучший друг Вова Минин был года на два позже Миши взят органами бдительной советской милиции и с длинным латинским диагнозом, в котором фигурировало слово «садизм» заперт в городской сумасшедший дом. На моей памяти он хвастался тем, что затолкал 2-х малышей из первого класса в подвал котельной, и там бил их палкой, не разбирая, «по чему попадется», заставляя их в то же время кричать «Да здравствует окончательная победа коммунизма».
Остальных не помню. Все они ушли из меня, из моей памяти. А один утонул. Его тоже не помню, помню только, что он любил схватить кого-нибудь за горло, сжать и пошутить: «Задохнешься – свистнешь!». Я сейчас не очень понимаю, в чем юмор шутки, но тогда, очевидно, понимал, потому что помню себя, подобострастно хихикающим. Так вот, он утонул.
Но не подумали, ох не подумали, инспектора, директора и воспитатели советской молодежи, что они делают, собирая двенадцать евреев в единый коллектив. Или у кого-то, кто должен бы был контролировать, сигнальная лампочка не сработала. А может, разговаривая о классе с дюжиной отличников, дюжиной второгодников и четырьмя украинцами, как-то само собой выпало, что отличники – евреи. Не знаю. Только не надо было этого делать, граждане педагоги, ой, не надо было!
Потому что евреи, ошарашенные переводом, избитые одноклассниками, запертые в чужие микрорайоны со страшными хулиганами и темными дворами, опомнились, собрались в кучки, пошушукались и перешли в наступление.
Сначала «мамины» бутерброды исчезли из портфелей, потом вечно голодному Тутину было сказано, что не трудно получать ежедневно по три сэндвича с ветчиной, если он встанет на защиту угнетенного меньшинства. Потом, остальным второгодникам, сносящим тяжелые побои родителей за лень и неуспеваемость, было объявлено, что начинается новая эра. Каждый «отличник» готов за время контрольной писать 2 варианта – себе и «другу». Домашнее задание тоже можно приготовить в двух экземплярах – погрязнее, не совсем правильно и не всегда, но приготовить! Во время устных же ответов, мозговой трест класса брался постараться (не более того, конечно) подсказать и выручить, чем только мог.
Перспектива показалась столь прекрасной и столь легко осуществимой, что у обоих высоких договаривающихся сторон закружились головы.
Первая же контрольная по математике дала столь ошеломляющие результаты, что директор школы пригласила инспектора районо, и та, в свою очередь, придя в класс, разливалась о начале опыта, который придется перенять по всей стране. «Советская школа!», - кричала она, стоя у доски и грозила кому-то далекому и злому сухим пальцем. – «Это наше оружие, и с ним, господа угнетатели и буржуи придется считаться! Да, придется!».
Так, с поднятым пальцем, она и вышла из класса, и пошла по коридору школы, спустилась по ступенькам, пошла по улице, там ей подали трап, она вошла в самолет, вышла в Америке, погрозила… и вернулась обратно.
Поняв, что нас не застукали, класс воодушевился и был заключен (и закреплен ударами рук, крепкими объятиями и обещаниями не забыть до гроба) исторический «пакт о списывании». Из него следовало, что до того как мы (мозговая часть класса) начинали писать контрольную, мы писали ее одному подшефному второгоднику, вне зависимости от того, писал ли он тот же или иной вариант контрольной.
Я отношу исключительные успехи моих соучеников на районных и городских олимпиадах за счет того, что нам годами нужно было успеть в отведенный промежуток времени написать не одну, а две контрольные работы. Причем, первую умудриться написать на тройку. Часто это и было самым сложным – быстро и убедительно сообразить, где сделать ошибку. Мы потом обменивались опытом, и даже хвастались этими ошибками друг перед другом.
Двойки практически исчезли из журналов и дневников наших одноклассников. Мы старались держаться в рамках крепких троек, но однажды в класс пришел завуч и форменным образом подначил нас написать предложенную районом контрольную «только на хорошо и отлично».
Класс выдал такую среднюю оценку, что в районе не поверили и решили, что учителя мухлюют. Директор обиделся и предложил районному отделу народного образования дать другую контрольную, и чтобы ни один учитель нашей школы при этом не присутствовал. Перед контрольной директор пришел в наш класс и произнес речь, из которой стало ясно, что для чести школы надо постараться. Из Роно приехало трое хмурых инспекторов, которым мы вдели их вшивую контрольную вообще без ошибок, с одной опиской, за которую я (ее автор) получил от соучеников строгача с занесением.
На время инспектора исчезли, но потом в классе появился сухонький старикашка, как потом выяснилось, педагогический академик, который почти неделю сидел на задней парте и что-то тихонько записывал в большую общую тетрадь.
Ирина Борисовна Гинзбург, наша учительница литературы, которая когда-то была, как выяснилось, любимой ученицей академика (и которую он не смог оставить в аспирантуре из-за «пятого пункта» в паспорте) рассказала нам, что академик быстро во всех наших махинациях разобрался и даже собирался предложить правительству для улучшения успеваемости на всей территории государства объединять евреев со второгодниками в масштабах страны в обязательном порядке. Но потом понял, что неоткуда будет взять столько евреев, и занялся какими-то другими, не менее интересными и многообещающими проектами.
В школе пока что стало известно, что трогать евреев из 5 «А» небезопасно. Та же новость довольно быстро распространилась и в районе, так что, если нас и били иногда, то просто потому, что на еврее не написано из 5 «А» он или нет. Но и это мы прошли, научившись, как пароль выкрикивать имена наших защитников.
Именно в эти тяжелые, но и интересные годы я насовсем потерял Колю Горохова-Йоффе и как-то забыл о Мишке. Оба они жили на моей улице: Коля в соседнем доме, а Мишка напротив, но я почему-то не видел их. Хотя, просто наверное, новая жизнь подхватила меня, закрутила а персонажи старой размылись, растворились и даже, встречая их на улице, я «не видел» их. Не видел потому, что они не были мне нужны. А я им. Как это трагично, как больно звучит сегодня.
Я ведь только что, только что был на твоем дне рождения, Мишка! Тебе исполнилось десять лет. Был Марик Гуровский, помнишь? Толстый Марик, над которым все смеялись. А на твоем шестнадцатилетии? В той же комнате! В той же комнате. Даже тот же Марик – и вы играете в четыре руки. А девочки, две девочки, так влюбленные в тебя. В тебя всегда кто-то был влюблен. Как это у тебя получалось? Научи. Будь другом, научи.
Эй, вдруг выплыл Вигдорчик. Приехал с Крайнего Севера из Вайенги, и объявился тут как тут. Оказалось, что он стал старше меня на год. Всегда был такой же, а стал старше. Он сказал: «Переходи к нам в школу, я останусь на второй год, и будем учиться вместе». Вигдорчик! Наивный медведь из Вайенги! Если бы все было так просто.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
- 92 просмотра