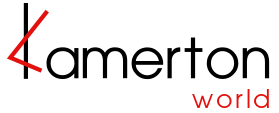Тем утром, придя в здание Электрической Компании, он поначалу не обратил внимания на странное поведение сослуживцев. Евгений Филиппович не слишком часто бывал здесь, то и дело уезжал под предлогом командировок, брал внеплановые отпуска, и его туманный статус не мог не вызывать вопросов у коллег, добросовестно отбывавших свои рабочие часы от звонка до звонка. Поэтому он не сразу осознал необычный объем барокамеры звенящего молчания, которая перемещалась вместе с ним по залу, куда бы инженер Азеф ни направил свои стопы – а осознав, заметил уже и другие, периферийные признаки какого-то из ряда вон выходящего происшествия: перешептывания, косые взгляды, ужимки, ухмылки, сокрушенные покачивания головой.
Выждав некоторое время, Евгений решил выяснить причину этих странностей у бухгалтера Гринбойма, с которым поддерживал сдержанно-приятельские отношения на почве соплеменной солидарности. Гринбойм, молодой носатый еврей в нарукавниках, сидел, низко склонившись над столом и механически перекладывал один и тот же документ из левой стопки бумаг в правую и обратно.
– Александр Меерович, что-то случилось?
Бухгалтер поднял на него заплаканные глаза:
– А вы не знаете? Да вот же в газете, читайте…
Евгений развернул газету.
– Не этот лист, другой… – шепотом подсказал Гринбойм.
Сначала ему бросилось в глаза набранное крупным шрифтом слово «погром». Затем – «Кишинев». Затем – «десятки убитых и сотни искалеченных». Затем сознание рывком вернулось к двум первым словам, но уже с добавлением имени и лица, взятых не из газеты, а из памяти детства: округлое чистое личико младшей сестренки Фрейды – ныне взрослой женщины, матери семейства, переехавшей с замужеством туда – в «погром» и «Кишинев». Евгений заставил себя дочитать статью до конца – это оказалось нелегким делом: очень мешало стоявшее между ним и газетой личико Фрейды.
«Ты камень, – сказал он себе. – Все эти гои, которые смотрят сейчас на тебя, видят камень. Камни не плачут».
Он плохо помнил, как оказался в идущем на юг поезде, плохо помнил, как добрался до Кишинева, потому что все это время – наяву и во сне, в вагоне и в ожидании пересадки, пытался разговорить Фрейду.
– Ты жива?
Она не отвечала, только лукаво поглядывала, как когда-то за субботним столом – шалунья, любимица семьи.
– Где ты сейчас?
И снова – ни слова в ответ. Он сердился: если уж ты все время маячишь перед глазами, то хотя бы скажи что-нибудь. Это в конце концов невежливо по отношению к старшему брату…
В Кишиневе летал тополиный пух.
– Что ж так рано, не по сезону? – спросил Евгений извозчика, взявшегося довезти его до Азиатской улицы.
– Это не с тополей, господин, – не оборачиваясь, ответил тот на идише, – это с еврейских перин и подушек. Как доедем, поймете.
По мере приближения к старым кварталам, пуха и в самом деле становилось все больше. Он лежал белыми облачками в затишках, вздымался вверх по воле игривых сквозняков, крутился над землей, усыпанной битой посудой, осколками оконного стекла и расколоченными в щепу обломками стульев и этажерок, нежно оглаживал видневшиеся тут и там бурые островки, подобные родимым пятнам на пыльных телах площадей.
– Кровь, – сказал извозчик, указывая кнутом. – Где топорами и ножами били, там и натекло. Это вот пятно – Маклин, а то – Берлацкий. Надо бы подобрать, да не успели. Рук не хватает мертвецов хоронить. Приехали, господин. Вот она, Азиатская. Вам какой дом нужен?
Евгений не знал. Он отпустил балагулу и встал на небольшой площади, озираясь с видом человека, чьи глаза вынуждены вбирать в себя то, с чем заведомо не может управиться сознание. Вокруг него, как тени, бродили несколько женщин и стариков, старательно всматриваясь под ноги и поднимая то разодранную наволочку, то чудом уцелевшую тарелку, то рукав детской кофточки. Они безмолвствовали, как и положено теням, но тем не менее казалось, что воздух вокруг наполнен воплями. Каждая деталь тут вопила что есть мочи – вопила и корчилась от ужаса.
Кричали раззявленные пасти входных проемов:
– Спасайтесь! Дверь высаживают топорами! Вот-вот доберутся до вас!
Визжали отверстия в стенах – пустые, неряшливые, со свисающими на улицу обрывками оконных переплетов:
– Лезут! Лезут убийцы!
Верещали дыры на черепичных крышах:
– Убегайте, не спастись и здесь! Сбросят вниз и добьют ломами!
– Смерть!.. Смерть!.. Смерть!.. – монотонно взвизгивали болтающиеся на одной петле дворовые ворота.
– Кровь!.. Кровь!.. Кровь!.. – вторило им битое стекло, хрустящее под ногами.
И лишь облака пуха, перелетавшие от одного крикуна к другому, напоминали, что ужас не вечен, что бурые пятна соскребут лопатами, что улицу подметут, стекла вставят, двери повесят заново, а со временем вернутся и праздники, и жизнь, и милость Господня, неведомо как и почему забывшая свой народ. А главное, вернется воздушная радость бытия – легкая, как сам этот пух, выпущенный убийцами из перин, чьим бывшим хозяевам хватает уже лишь тонкого полотняного савана.
Евгений потряс головой, избавляясь от вопящего наваждения. Одна из женщин в ответ на его вопрос кивнула:
– Фрейда, жена кузнеца? Жива, в больничке. Тут недалеко… – она махнула рукой, указывая направление.
В переполненной больнице он сначала встретил мать, приехавшую в Кишинев из Владикавказа. Увидев сына, она расплакалась:
– Евно, мальчик мой, как хорошо, что ты здесь…
– Что с Фрейдой? С детьми? Где Файвуш?
Сара вытерла слезы уголком платка.
– Дети со мной, оба живы-здоровы, слава Богу. Фрейда тоже… тоже жива. Только руку сломали и поколотили сильно, лицо всё опухшее. И еще… только ты об этом с нею не говори, ладно? – она поманила сына поближе и прошептала на ухо: – Снасильничали ее, и не один. Очень ей стыдно, так что ни слова, хорошо?
Евгений непроизвольно сжал кулаки. Но где их сейчас найдешь, сволочей?..
– А Файвуш? Где был Файвуш?
Мужа сестры – широкоплечего здоровяка, доброго и веселого, как и сама Фрейда, Евгений знал лишь по фотографиям. Сара скорбно покачала головой:
– Убили. Он пытался ее защитить. Люди говорят, они прятались в каком-то сарае. Думали, дом точно взломают, чтобы ограбить, а в сарае-то брать нечего, так и не сунутся. Но вот – сунулись. Сначала-то Файвуш пробился наружу, побежали по улице, да разве убежишь? Улица-то полна гоев и все с ломами, с дубинами, с топорами… Вот и убили его. Там шинок еврейский, так прямо напротив шинка до сих пор еще лужа. Бочку-то с вином разбили, вот и натекло. Лакали, как свиньи, прямо с земли. Говорят, там Файвуша и догнали. Теперь там вино вперемежку с его кровью, вот ведь как. Веришь ли, сыночек, сил уже нет плакать, слезы кончились…
Лицо Фрейды напоминало сплошной кровоподтек. Увидев брата, она попробовала улыбнуться:
– Евно! Где ты был Евно?
Евгений вздохнул, погладил ее по здоровой руке:
– Все будет хорошо, Фрейделе. Я привез деньги, много денег, хватит и тебе, и маме, и детям. Сегодня же договорюсь с хорошей клиникой, переведем тебя, чтоб быстрее поправлялась.
Сестра помотала головой:
– Не надо, Евно. Лучше уж со всеми. Тут врачи свои, наши. А клиника-то, небось, гойская. Не хочу туда… – она помолчала и вновь попробовала растянуть в улыбке разбитые губы. – Знаешь, я все время тебя вспоминала, как ты рассказывал про то, как Срулика…
– Не надо, Фрейделе…
– Даже не про Срулика, – продолжала она, – а про городового. Представь, тут тоже такой был. Убивать-то не сразу начали. В первый день несколько лавок разбили, шинок, само собой… Так что, не больше, чем обычно на Пасху. У нас говорили: сейчас губернатор даст приказ, придут солдаты, наведут порядок. А наутро городовой прошел по домам, сказал, чтоб заперлись и не выходили. Файвуш спросил про приказ. А городовой засмеялся: нет приказа и не будет, не надейтесь. Сел на углу на тумбу, там все время и просидел. Прямо перед ним стекольщика Нусинзона резали, а он в небо смотрел. Мы тогда еще в сарае сидели, я видела. А потом, когда убегали, мимо двух военных патрулей пробежали. Я кричу: «Помогите, убивают!..» А они… они смеются… Евно, Евно… где ты был, Евно?
– А дети? Куда вы дели детей?
– К соседям. Подружка у меня молдаванка, так я к ней детей через плетень перекинула. Хотя не сразу взяли. Отец ее выскочил: не пущу, кричит, забирай назад своих жиденят. И назад их, через плетень. А я снова перекинула: выхода-то нет. Они ревут в голос, а мы их перекидываем… Так и кидали туда-сюда, будто горшки какие, пока подруга кол не выдернула и своего папашу не отогнала. Ах, Евно, Евно…
Дорогой пансион, в котором остановился Евгений, находился в зажиточной части города, которую погром практически не затронул. Ветер, хотя и доносил пух от перин на здешние чисто метеные улицы и во дворы богатых особняков, но делал это подчеркнуто деликатно, дабы не потревожить чувства приличных горожан. Впрочем, вовсе обойти вниманием тему, разговорами о которой полнилась уже вся Европа, было бы невозможно даже при очень большом желании. Евреем среди двух дюжин жильцов не назвался никто, хотя под явные подозрения в принадлежности к гонимому племени подпадали как минимум три супружеские пары, старательно изображавшие греков. Евгений тоже записался германским инженером Александром Ноймайером, но его имитация тяжелого немецкого акцента звучала гораздо убедительней, чем усилия мнимых детей Эллады.
Большинство постояльцев полагали, что евреи получили поделом за свою всем известную наглость и за развращение российской молодежи, но вместе с тем отмечали, что народное возмущение в данном случае зашло, наверно, слишком далеко, породив ненужные эксцессы, без которых можно было бы обойтись в виду неблагоприятной реакции чересчур чувствительной европейской прессы. С этой весьма умеренной точкой зрения категорически не соглашался молодой человек по фамилии Модзалевский – нотариус, из поляков – личность довольно известная в светских гостиных Кишинева. Он не скрывал, что принимал самое активное участие в погроме, а в пансионе поселился временно, опасаясь, как он говорил, «жидовской мести».
– Мало, господа, очень мало! – возражал он. – Надо бы больше. Народ у нас добренький – вот в чем беда. Другие бы давно уже вывели жида под корень, а наши все цацкаются да жалеют.
– А скажите, Витольд Андреевич, – обращался к нотариусу присяжный поверенный Кодряну, лучше других осведомленный о юридической стороне дела, – не боитесь ли, что вас, так сказать, привлекут? Вчера в присутствии говорили, что идет следствие, десятки виновных арестованы. А вы, по слухам, подстрекали толпу, заверяя мастеровых, что царь и правительство с ними…
– «Виновных»?! – восклицал Модзалевский. – Вы называете этих честных людей, защитников Христа и Отечества, «виновными»? Жиды-социалисты баламутят нашу русскую молодежь, посылают ее на царя с бомбами, а подстрекатель после этого – я, честный нотариус Витольд Модзалевский?! Нет, господа, я не в силах вынести подобных разговоров. Не в силах!
Он церемонно раскланивался со всеми присутствующими сразу и выпархивал из пансиона навстречу своему привычному времяпрепровождению. Единственный наследник большого состояния, Модзалевский проводил ночи напролет в кутежах и за карточным столом в кругу таких же оболтусов, как и он сам.
– Да уж, – внушительным баритоном подытоживал Кодряну, как только за нотариусом захлопывалась дверь. – Этому господину явно нечего бояться – большая мошна и важные друзья всегда выручат. Кого-то за кражу двух картофелин в каталажку волокут, а кто-то может младенца зарезать посреди людной площади – и ничего.
На третью свою ночь в городе Евгений проснулся от характерного шума подъехавшей пролетки и, выглянув в окно, увидел Модзалевского. Тот отпустил извозчика и теперь, держась за фонарь у входа в пансион, размышлял, куда двинуться дальше. Даже на расстоянии было видно, что нотариус сильно пьян. Постояв так с минуту, он оторвался от фонаря, погрозил кулаком то ли кому-то, то ли сам себе и пошатываясь направился в сторону соседнего сквера.
Евгений быстро оделся. Где ты был, Евно?.. То, что он собирался сделать, настолько выпадало из его привычного, тщательно спланированного и контролируемого каждой своей деталью поведения, что Евгений непроизвольно взглянул в зеркало: кто там – рациональный инженер «брат Евно» или импульсивный импровизатор «брат Гирш»?
– Где ты был, Евно? – спросил он у зеркала.
Эти слова сестры до сих пор звучали у него в ушах. В фойе было пусто. Он отпер дверь – спящая улица встретила его тем же вопросом. Где ты был, Евно? В предрассветных сумерках он шагал по безлюдным аллеям в поисках Модзалевского, но, видимо, прошел бы мимо, если бы тот не окликнул его сам.
– Господин! Эй, господин! Не найдется ли мелка?
Евгений остановился. Вусмерть пьяный нотариус взывал к нему со скамьи под деревом в стороне от дорожки.
– Мелка? Зачем вам понадобился мелок?
Идиотская нелепость просьбы на мгновение заставила Евгения забыть о его намерении. Он подошел и сел рядом, с отвращением глядя на заблеванное дорогое пальто и мокрые брюки Модзалевского.
– А, это вы, господин Майер? – нотариус осклабился и погрозил кривым пальцем. – А вы точно Майер, а не какой-нибудь Кац?.. У меня, знаете ли, на Кацев особый нюх. Хотя, впрочем, какая сейчас разница… Не найдется ли у вас мелка, господин Кац?
– Зачем?
Модзалевский поник головой.
– Зачем-зачем… Что за дурацкий вопрос? Затем, что сегодня я выиграл кучу денег! Пятнадцать тысяч! Во как! Пятнадцать и еще сколько-то, не считал. И это надо укево… укаво… увеко-вечить! Надо написать… вот тут… – он отстранился, чуть не нырнув вниз, но удержался и принялся водить ладонью по спинке скамьи. – Вот тут… укевоче… а, черт!
– И что вы хотите тут написать? Мелка у меня нет, но подойдет и гравий на аллее, Говорю вам это как инженер.
– Ага! – торжествующе воскликнул Модзалевский. – Ага! Тогда напишем так: «Нотариус Модзалевский был тут». Да! Так и напишем!
– Хорошо, – согласился Евгений. – Но сначала открой рот. Хотя, зачем я прошу? Ты ведь и так челюсть не держишь…
Он всунул револьверный ствол в рот Модзалевского и нажал на спусковой крючок. Звук вышел слабый, не громче хрустнувшей ветки. «Брат Гирш» шутил о таких вот бесполезных дамских пукалках, что из них можно разве что застрелиться, да и то не во всякий висок, а уж лоб и подавно не пробьют. Но вот ведь – пригодилась и пукалка… Евгений тщательно обтер оружие и вложил его в руку мертвеца.
Теперь осталось лишь исполнить заверенную нотариусом предсмертную волю. Евгений нашел подходящий камешек и размашисто написал – красным на зеленой доске: «Нотариус Модзалевский умер тут». На следующий день весь Кишинев обсуждал самоубийство баловня судьбы, «золотого мальчика» Витольда Модзалевского. Большинство местных властителей дум сходились во мнении, что молодого нотариуса свело в могилу необоримое чувство вины. Все-таки, что ни говори, а народное возмущение, наверно, действительно зашло слишком далеко…
Евгений в обсуждении не участвовал – он наслаждался чувством необыкновенной легкости, как будто после многих лет хождения по грудь в вязкой болотной жиже вдруг выбрался на сушу и, не сковываемый более ничем, шагает по ровной, твердой, приятной ступням поверхности. Он никогда прежде не убивал, не чувствовал ответственности за чье-либо убийство – кроме, разве что, бродячих собак, которых химики Боевой Организации приманивали для испытания динамитных бомб в лесу под Женевой. Их Евгений чрезвычайно жалел, что вызывало насмешливую реакцию у главного варщика динамита Макса Швейцера: дескать, как же вы тогда человеческую жизнь отберете, Иван Николаевич, коли так по собачьей страдаете? Знающие люди утверждают, будто первое убийство оставляет такой шрам на душе, что не приведи Господь…
И вот он впервые убил. Причем, не издалека, перепоручив другому выстрелить или бросить бомбу, и даже не с расстояния в два-три метра, как Карпович и Балмашев, а ближе, чем в упор, затолкав ствол револьвера в разинутый слюнявый рот и глядя в глаза, где пьяный бессмысленный туман в течение двух долгих секунд сменялся сначала удивлением, затем ужасом и, наконец, финальным узнаванием смерти. И что же? Он не испытывал ни потрясения, ни тошноты, и, уж тем более, не чувствовал никакого шрама на душе. Скорее, шарм, а не шрам – радостное облегчение, какое бывает после того, как находишь ответ на вопрос, долго остававшийся безответным. Например: «Где ты был, Евно?» Да вот – уничтожил одного из убийц Файвуша…
С этим следовало хорошенько разобраться, понять, откуда что взялось. Евгений думал об этом в Кишиневе, думал в поезде по дороге назад в Петербург. Что ж такое получается: неужто он уподобился боевику-террористу? Он, всегда презиравший истеричных революционеров, включая эсеров, в партийные вожди которых выбился по стечению обстоятельств? Разве он не сдавал их в полицию без малейших угрызений совести? Сдавал. Но делал это не потому, что был на стороне власти: власть, которой служил, Евгений не любил еще больше. Ведь и российские революционеры, и российские власти, а также российские мастеровые и городовые, деревенские крестьяне и почтовые служащие, казаки и рабочие, то есть все то, что социалисты именовали словом «народ» – все эти сотрудничающие или враждующие между собой орды, группы и компании – были для него не более чем частями общей неприятной, злобной, навязчивой действительности, именуемой «Россия-мачеха». Он не выносил их всех, поскольку не выносил Россию.