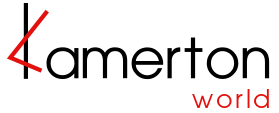Согласно семейной легенде, у моей мамы было два рисунка Марка Шагала. Они погибли вместе со всем остальным, когда в одну из первых бомбёжек Москвы в наш дом в Староконюшенном переулке прямым попаданием угодила немецкая бомба и разнесла его в щепы. Об этом лучше не думать. Мне тогда едва исполнилось три года, я ничего не помню и знаю только по рассказам…
Мама моя родилась в местечке Ружаны, километров в пятистах от Витебска, в ста сорока – от Бреста. Теперь это Белоруссия. Мама никогда не вспоминала и не рассказывала мне о Ружанах, мне это местечко представлялось чем-то вроде шолом-алейхемовской Анатевки, и только совсем недавно, заинтересовавшись своими корнями, я обнаружила, что когда-то Ружаны были центром еврейской учёности, в городе существовала известная в округе ешива, жили знаменитые раввины.
Ружанские евреи занимались ремёслами, жили зажиточно и были боевые люди: организовав самооборону, не допустили у себя погромов 1905 года. Правда, позже, во время Первой мировой войны, их грабила и громила отступающая русская армия, а вслед за ней - занявшие эту территорию поляки. Но мама моя в это время была уже в Витебске.
Ружаны знамениты страшной историей, описанной в еврейской энциклопедии Брокгауза и Эфрона, позже повторённой в книге Адамовой-Слиозберг «Путь. Происхождение одной фамилии». Не могу не поделиться с вами отрывком из этой книги.
«Мой свёкор Рувим Евсеевич Закгейм был молчаливый еврей, погружённый в священные книги. Иногда он шумно спорил по-древнееврейски с какими-то стариками. Спор касался различных толкований Талмуда и горячо волновал вот уже несколько тысяч лет талмудистов, живущих в своём особом мире, очень далёком от вопросов повседневности…
…Он великолепно отвергал христианство. О нём не было написано в его священных книгах, оно было слишком современно для него.
В 1930 году свёкор торжественно вошел в мою комнату, где я сидела у постельки новорожденного сына.
— Мне надо поговорить с тобой. Будешь ли ты обрезать ребёнка?
Я знала, что дед молил бога, чтобы у меня родилась девочка, потому что понимал, что мальчик останется необрезанным, а это для него была трагедия. Мне было трудно отказать старику, и я решила спрятаться за спину мужа.
— Нет, Рувим Евсеевич, если бы даже я согласилась, ваш сын никогда не разрешит мне это сделать.
— Если ты согласишься, мы сделаем это без его разрешения.
Дед подбивал меня на преступление. Бедный! Сколько же он перестрадал, если решил восстать против обожаемого сына!
— Знаешь ли ты происхождение нашей фамилии?
Дед вытащил из кармана старинный кожаный футляр, украшенный могендовидом и надписью на еврейском языке. В футляре лежал свиток пергамента. Он торжественно прочёл мне непонятный текст на древнееврейском языке и перевел.
Содержание рукописи было следующим.
В семнадцатом веке в местечке Ружаны перед пасхой нашли труп христианского младенца. Ружанскую еврейскую общину обвинили в ритуальном убийстве.
Влиятельный князь, которому принадлежало это местечко, заявил, что он сотрёт с лица земли всю общину, если в трехдневный срок не выдадут убийц.
Трое суток день и ночь вся община молилась в синагоге о спасении, а на утро четвёртого дня два старика пошли к князю и признались в убийстве.
Стариков повесили на воротах замка.
Община составила две грамоты и выдала их семьям убитых. Одна из этих грамот была в руках у моего свёкра. В ней удостоверялось, что старик (имярек) не является убийцей, что он отдал свою жизнь для спасения общины, что в синагоге в Ружанах о душе его будут молиться вечно, а семья его получит фамилию Закгейм, что означает «зерех кейдеш гейм» — семя его священно. Род его должен продолжаться во веки веков, и если не будет наследника мальчика, то дочь, выйдя замуж, передаст эту фамилию своему мужу.
Дед прочёл мне грамоту и вопросительно посмотрел на меня.
— Если он будет не обрезан, я не смогу отдать ему этой грамоты, а он является наследником рода.
Мне очень хотелось получить этот свиток, и очень жаль было старика, который сильно надеялся, что теперь уж я не устою.
Но я устояла. Оскорблённый, он вышел из комнаты и унёс своё сокровище.
Деда давно нет в живых. Во время войны пропал свиток. Последнему Закгейму, сыну моего сына, скоро исполнится год. Он учится ходить. Он ещё не умеет держать равновесие и качается на своих пухлых ножках. Я смотрю на него и думаю: сколько бурь пронеслось над человечеством с семнадцатого века, когда «на веки вечные» выдана была грамота семье Закгейм...
Один Закгейм, председатель Ярославского горисполкома, в 1918 году был растерзан во время белогвардейского мятежа. Четверо убиты на войне. Несколько человек погибли в печах Освенцима.
Мой муж расстрелян в подвале Лубянки в 1936 году».
Так трагическая линия семьи Закгеймов протянулась из семнадцатого века в двадцатый.
Ружаны присоединили к Советскому Союзу в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа. Ремёсла тотчас отменили, граждан разорили, жители начали голодать. Дед мой был всё ещё в Ружанах, потому что папа отправлял туда посылки с крупой. Продуктовые посылки отправлять почему-то запрещалось, но папа нашёл выход: он был редактором Большой медицинской энциклопедии, тома которой – фолианты огромного формата – вставляли в гнёзда из прочного картона, с соответствующей надписью и штампом. Папа вынимал энциклопедию и до отказа набивал пустые картонные гнёзда рисом и гречкой: Медицинскую энциклопедию посылать не запрещали.
Во время войны след деда пропал. Ружанские евреи, не умершие с голоду при советской власти, были вывезены немцами в Треблинку и погибли в Холокосте.
…В интернете я обнаружила список известных уроженцев Ружан, среди них американский историк и журналист Мелех Эпстейн, публиковавшийся на идише (и там же, представьте, Ицхак Шамир, будущий премьер-министр Израиля). Год рождения Мелеха Эпстейна 1889-й, за одиннадцать лет до моей мамы. Мелькнула мысль: а вдруг это мамин старший брат, чудом уцелевший в Холокосте – мой дядя, оставшийся в Ружанах со своим отцом?! Проверить эту версию я пока не смогла, и живу с этой утешительной надеждой.
Ничего этого о Ружанах я не знала, да и мама, может быть, не знала тоже. Во всяком случае, она никогда ничего мне не рассказывала о своём раннем детстве, а мне не приходило в голову её расспросить. Знаю только, что дед мой Янкель Эпштейн был инженером по пивному делу, его называли «учёный пивовар». Образование он получил в Европе, кажется, в Бельгии. У него с моей бабушкой Ноэми (в девичестве Яхниной), было пятеро детей. Бабушка умерла очень рано. Дед оставил себе старшего сына, а остальных детей, включая мою маму, забрала к себе в Витебск бабушкина сестра тётя Соня Яхнина, популярная в Витебске акушерка.
Семьи Шагалов и Яхниных жили неподалёку друг от друга и разнообразно пересекались. Муж тёти Сони дядя Кизя Вайнкоп владел в Витебске аптекой («аптека Вайнкопа»), она есть на одной из картин Шагала. Тётя Соня как акушерка, вероятно, принимала братьев и сестёр Марка Шагала, а может быть, и самого: он родился в Витебске в 1887 году, она в те годы практиковала. Если упомянутые выше рисунки – не легенда, то скорей всего Шагал подарил их не маме, а тёте Соне, «семейной акушерке». Помимо этого, Шагал пишет в своей автобиографии с оправданным неудовольствием, что его отец ворочал бочки с селёдкой в лавке Яхнина – какого-то моего родственника по маминой линии.
Тётя Соня и дядя Кизя дали приёмным детям прекрасное образование: все они учились в медицинских институтах Москвы и Петербурга. Там и осели. Мама ни в Ружаны, ни в Витебск никогда не возвращалась и ничего мне о них не рассказывала. Ни имя Шагала, ни имя Беллы – жены Шагала, она была старше мамы на пять лет – в доме не упоминались. Шагал был эмигрант и еврей, в те страшные годы в Советском Союзе – персона нон грата. Мои родители оберегали меня от еврейской темы и даже в ГОСЕТ (еврейский театр) с собой не брали, за что я на них в обиде. Сами-то они в ГОСЕТе бывали довольно часто: папа был близко знаком с Соломоном Михоэлсом.
Кроме маминых братьев и сестры, я никогда не встречала людей из маминого детства. Мама умерла в 1971 году, с ней Ружаны ушли в прошлое. Остались только два альбома с фотографиями её ружанских и витебских лет. Один – из красного бархата, с потерянной теперь изящной металлической виньеткой, другой – чёрный лаковый. В альбомах – замечательные старые сепии на толстом картоне. Я не знаю почти никого из запечатлённых там лиц – только моих тётю и дядей. Но на многих фотографиях стоят фамилия и адрес фотографа и год снимка. Тут и начинаются две истории, которые я хочу рассказать.
Первая история, совершенно меня ошеломившая, произошла в Штатах в 1991 году. Примерно за год до этого я прилетела в Солт-Лейк-Сити по приглашению Университета штата Юта. Улетала из Москвы, как тогда думалось, на три месяца, а прилетела в Штаты, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. Университет пригласил меня занять именную кафедру, так называемую «кафедру Клайда» – по уставу колледжа, на эту кафедру приглашают иностранного учёного или инженера на один семестр раз в два года. Это – очень престижная позиция, и профессор, занимающий кафедру Клайда, всегда привлекает внимание средств массовой информации. В моём случае это было возведено в высшую степень, потому что я была первой «русской» и первой женщиной на этом Олимпе. Я была буквально нарасхват и выступала в разных аудиториях, обществах и клубах, включая воскресную службу в мормонской церкви. Постепенно дело дошло и до синагоги, в ту пору единственной в штате: я была приглашена на субботний завтрак. Народ в синагоге, конечно, больше всего интересовался положением евреев в Советском Союзе (заметьте, это был ещё Советский Союз). Моё пребывание на кафедре Клайда разрушало стереотип, согласно которому советским евреям не было доступа к образованию, и меня забрасывали вопросами. Я отвечала как умела.
После моего выступления ко мне подошла маленькая рыжеватая женщина, довольно пожилая, если не сказать сильнее. Представилась: Соня Коне (ударение на «о»). Ниже приведен наш диалог в буквальном переводе.
- Вас ведь тоже зовут Соня? – спросила меня Соня Коне.
- Нет, меня зовут Наташа.
- О, конечно – моя ошибка, – это не вас, а вашу маму зовут Соня, правда?
Я уставилась на неё в изумлении.
- Да, мама была Соня.
- Она жива?
- Нет, умерла в семьдесят первом году.
- Как фамилия вашей мамы?
- Рапопорт.
- Нет, девичья фамилия. Её фамилия Эпштейн, правда?
Я начала потихоньку сходить с ума. Что это за Вольф Мессинг объявился в синагоге города Солт-Лейк-Сити?!
- Да, мамина девичья фамилия Эпштейн.
Соня ударила себя в грудь:
- Я – Эпштейн. Откуда ваша мама родом?
- Из местечка Ружаны.
Соня опять ударила себя в грудь:
- Я из Рузьяны. Меня увезли в Америку, когда мне было … (тут я, к сожалению, не поняла, а переспросить постеснялась: ей было то ли девять, то ли девятнадцать лет, а то, может, её увезли в девятом или в девятнадцатом году. Я была тогда в Штатах всего несколько месяцев, язык давался с трудом, и я очень комплексовала, когда не понимала. До сих пор рву на себе волосы, что не переспросила).
Я так опешила, что даже мурашки пошли по спине. Нежданно-негаданно, почти через сто лет, получить вдруг привет из маминого детства! И где?! Не в России, не в Белоруссии или, скажем, Польше, а в Америке, на Диком Западе, по меткому выражению нашей дочери Виктории – в «жопе мира»!
- Почему вы ко мне подошли? Как вы догадались про мою маму?!
- Как только я вас увидела, я поняла, что мы родственники. Я помню вашу маму, вы очень похожи.
Это был полный сюр. Даже если Соне Коне в момент отъезда было девятнадцать, а не девять, или год был девятнадцатый, то сейчас-то год девяностый! К тому же моя мама в гимназические годы жила не в Ружанах, а в Витебске – правда, судя по фотографиям в альбоме, возвращалась на лето в Ружаны. Но в девятнадцатом году – ей тогда было девятнадцать – она уехала в Москву и больше никогда в Ружаны не приезжала. Значит, Соня помнила её в возрасте, самое большее, девятнадцати лет, а мне сейчас был пятьдесят один год… И вот, представьте, она узнала во мне маму! Я была совершенно потрясена.
- Нет ли у вас маминых альбомов с фотографиями? - спросила Соня.
- Есть, но они в Москве.
- Вы не могли бы кого-нибудь попросить их прислать?
- Нет, их не пропустит таможня, но я сама надеюсь съездить в Москву. Я их привезу.
- Я буду вам очень благодарна. У меня есть свой альбом, но я почти никого там не знаю. Мы сравним наши альбомы, и, может быть, вы мне поможете определить, кто эти люди.
- Боюсь, я вас разочарую. Я в своих альбомах тоже почти никого не знаю: я никогда у мамы не спрашивала. Но я их привезу.
Соня Коне, как мне объяснили американские друзья, была женой крупного солт-лейкского адвоката, владельца большой адвокатской конторы. Я – полная идиотка – не продолжила с ней знакомства. Занятая борьбой за выживание в новой стране, я работала день и ночь, писала гранты, и не откликнулась на единственное Сонино приглашение на обед. Больше приглашений не последовало, и на четыре года контакт прервался.
В 1994 году в отеле «Красный Лев» в Солт-Лейк-Сити проходил конгресс американской женской сионистской организации «Хадасса» (Hadassa - the Women’s Zionist Organization of America). Ума не приложу, почему меня попросили вести эту конференцию, и почему я, со своим инвалидным английским и весьма отдалённой связью с израильской культурой, согласилась. Действо это было очень значительное, широко разрекламированное, со списком действующих лиц, объявленным в средствах массовой информации. За несколько дней до открытия конгресса мне позвонила Соня Коне.
- Я увидела, что вы председательствуете на съезде «Хадассы». Я там буду. Вы привезли мамины альбомы?
- Да.
- Прошу вас, придите минут за сорок до начала, я хочу посмотреть ваши альбомы. Я принесу свой.
Я согласилась, и это была большая ошибка. Потому что встреча с Соней перед открытием конгресса совершенно выбила меня из колеи. Начать с того, что мой красный бархатный альбом оказался двойником Сониного альбома. Во всяком случае, по внешнему виду. Тот же красный бархатный переплёт, та же металлическая эмблема на бархатной обложке. Похожие снимки, сделанные в одной и той же фотографии (возможно, единственной в Ружанах в те годы). Некоторые персонажи на фотографиях совпадали, другие – нет. Но ни она, ни я никого из них не знали. Мы рассматривали и сличали фотографии, и я чуть не опоздала в зал, меня уже выкликали. Заседание я вела, как в тумане, и всё остальное, происходившее в тот день, покрыто для меня мглой.
Соня Коне была скорей всего маминой двоюродной сестрой по отцу, моей троюродной тётей. Сонин альбом-двойник потряс меня не меньше, чем сам немыслимый и невероятный факт встречи с ней в Солт-Лейк-Сити. Любая крупица памяти и прикосновение к маминой жизни, пусть мизерное и эфемерное, для меня драгоценны. И то, что спустя почти сто лет Соня узнала меня через маму – или маму через меня – поверьте, дорогого стоит!
Моя вторая история не такая драматичная, и не берусь сказать, чего в ней больше, смешного или грустного. Живя в Советском Союзе, я так и не добралась до Витебска, хотя всегда об этом мечтала. Но в 2009 году, после двух десятков лет в Штатах, я вдруг получила приглашение сделать научный доклад на 75-летнем юбилее Витебского медицинского института! Это было радостно и лестно. Забрезжила возможность взглянуть на город маминого детства.
План моего путешествия был таков. Я прилетала в Москву, в Шереметьеве меня подбирал директор Института экспериментальной онкологии Российского онкоцентра и вёз в Витебск на своей машине. Дело было летом, в Солт-Лейк-Сити в день отлёта было около сорока градусов, и я прилетела налегке, в полупрозрачной китайской маечке с надписью «Дольче и Габана» и вьетнамских шлёпанцах; одежда моя была в чемодане, я рассчитывала по прилёте переодеться в цивильное платье в шереметьевском туалете. Вы уже догадались: мой чемодан не прилетел. Безнадёжное ожидание чемодана задержало нас в Шереметьево почти на сутки. Нас держали там на жёсткой сцепке и кормили тоннами вранья. Директор Института экспериментальной онкологии трогательно сопровождал меня в походах по разным инстанциям и угощал в шереметьевском буфете. В конце концов стало ясно, что мы опаздываем на открытие конференции. Времени купить мне какой-нибудь приличный «прикид» уже не было. Мы плюнули на чемодан и понеслись в Витебск. Летели со скоростью небольшого самолёта. В результате я явилась медицинскому миру Белоруссии и сопредельных стран, прибывших на торжества, в полупрозрачной маечке и шлёпанцах... Торжественное заседание уже началось. Когда я в таком виде выползла на трибуну, аудитория, в отличие от меня, пришла в очень хорошее настроение. К счастью, слайды доклада и мамины альбомы были при мне в сумке с документами.
На следующий день я взяла тайм-аут на конференции, одолжила немного белорусских денег (было воскресенье, банки были закрыты) и отправилась прикрыть чем-нибудь наготу, а главное – хотела отыскать дом, где жила моя мама. Адреса я, конечно, не знала – надеялась, что сердце подскажет. Но нашла я только дом Шагала, благо там замечательный музей. А "наш" был где-то неподалёку. Побывала на чудом уцелевшем старом еврейском кладбище, отыскались там знакомые фамилии... После этого решила пройтись по адресам старых маминых фотографий - вдруг какая-нибудь фотомастерская сохранилась! Витебск во время войны был страшно разрушен, надежды было мало. Но, представьте, на центральной улице оказалась-таки фотомастерская с адресом более чем столетней давности! На том же самом месте, где в 1898 году была сделана фотография симпатичного кудрявого малыша – моего дяди Гриши. Ему там лет пять, и внизу под фотографией напечатаны большие цифры: 1898. Я была страшно взволнована: фотография, сделанная сто десять лет назад на этом самом месте! Я зашла. За стойкой сидела ухоженная блондинка лет тридцати, красила ногти. На меня взглянула мельком и вернулась к покраске ногтей. Вид у меня был, конечно, не для свадебного фото: оборванка, измученная долгим перелётом, нервным поиском пропавшего чемодана и двумя бессонными ночами. Я не без труда оторвала блондинку от её занятия и протянула фотографию дяди Гриши: "Взгляните! Эта фотография была сделана здесь, в вашей мастерской!" Она скользнула по ней равнодушным взглядом и спросила: "Это вы?" Я ахнула: вот же поганка! "Посмотрите на фотографию, на ней 1898-ой год! Сто десять лет назад! Я так плохо выгляжу или так хорошо сохранилась?!" Она сказала равнодушно: "А, ну да", – и вернулась к ногтям. Я спрятала фотографию в альбом и ушла очень огорчённая. Но несмотря на сопутствовавшие проблемы, встреча с городом маминого детства осталась для меня светлым воспоминанием.